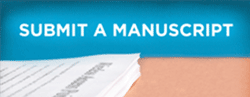Comparative Evaluation of Custom-Made Components and Standard Implants for Acetabular Reconstruction in Revision Total Hip Arthroplasty
- Authors: Murylev V.Y.1,2, Kukovenko G.A.1,2, Elizarov P.M.1,2, Rukin Y.A.3, Muzychenkov A.V.1,2, Rudnev A.I.4,5, Zhuchkov A.G.6, Alekseev S.S.6, Bobrov D.S.1,2, Germanov V.G.3
-
Affiliations:
- Sechenov First Moscow State Medical Univesity
- S. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
- I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University
- I.M.Sechenov First Moscow State Medical
- UniversityS. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
- S.P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
- Issue: Vol 29, No 3 (2023)
- Pages: 18-30
- Section: СLINICAL STUDIES
- Submitted: 27.01.2023
- Accepted: 07.06.2023
- Published: 15.09.2023
- URL: https://journal.rniito.org/jour/article/view/2553
- DOI: https://doi.org/10.17816/2311-2905-2553
- ID: 2553
Cite item
Abstract
Background. The use of custom-made acetabular components is one of the promising methods for reconstruction of the acetabulum in cases of significant defects, including those associated with pelvic bone dissociation. It allows achieving stable fixation and restoring the biomechanics of the hip joint.
Aim of the study — to compare the results of using individually designed components, supportive antiprotrusion rings, augments, and hemispherical components in revision total hip arthroplasty for type IIIB bone defects according to Paprosky classification.
Methods. The study analyzed the treatment outcomes of 90 patients with type IIIB bone defects who underwent revision total hip arthroplasty between 2017 and 2022. Patients were divided into three groups: the first group received individually designed acetabular components, the second group received augments with hemispheres, and the third group had antiprotrusion cages implanted. The analysis included the reasons for revision surgery, operation duration, blood loss volume, and type of revision procedure. Pain and functional outcomes were assessed with WOMAC, Harris Hip Score, and VAS scales.
Results. 3D-printed constructs were more frequently implanted in patients with pelvic bone dissociation. The first group showed a significantly positive dynamic in functional outcomes. Complications were diagnosed in 27 (30%) cases: joint instability (dislocation) in 10 (11.1%) patients, periprosthetic infection in 8 (8.8%), aseptic loosening in 4 (4.4%), and sciatic nerve neuropathy in 5 (5.5%) patients. The number of these complications was higher in the second and third groups of patients.
Conclusion. Custom-made implants using 3D technologies are a preferable option for revision total hip arthroplasty in patients with type IIIB defects according to Paprosky classification, especially in cases of pelvic bone dissociation.
Full Text
BACKGROUND
Over the last two decades, there has been a significant increase in the number of primary large joint arthroplasties, leading to an escalated need for surgical revision [1, 2, 3, 4]. The reconstruction of the acetabulum in defects IIC, IIIA, and IIIВ according to the W.G. Paprosky classification, especially when accompanied by disruption of the pelvic ring, poses a complex challenge [5, 6]. A wide range of standard implants is necessary to restore the acetabular area with substantial bone defects [7]. Currently, numerous surgical options and techniques for utilizing standard revision implants exist; however, achieving their prolonged survival is not always successful [8]. The use of individually customized acetabular components stands out as one of the most effective approaches for reconstructing the acetabular defect with significant bone loss [9, 10, 11]. The application of 3D-printed components in cases of extensive bone defects, coupled with pelvic bone dissociation, not only ensures stable fixation but also restores the biomechanics of the hip joint [12, 13].
The aim of this study was to compare the outcomes of using customized components, supportive antiprotrusionn rings, augments, and/or hemispherical components in revision total hip arthroplasty for type IIIB bone defects according to the Paprosky classification.
METHODS
Study design
A prospective cohort study was conducted from 2017 to 2022. The treatment outcomes of 90 patients with type IIIB bone defects who underwent revision total hip arthroplasty were analyzed.
Inclusion criteria:
- loosening of the acetabular component of the hip joint replacement with a type IIIB bone defect according to the Paprosky classification;
- second-stage treatment of periprosthetic infection (PJI) (spacer removal, implantation of prosthetics components).
Exclusion criteria:
- HIV infection, drug addiction, mental disorders;
- deep PJI of the hip joint;
- severe somatic pathology requiring active correction and contraindicating for surgical treatment or significantly increasing operative risk;
- patients with PJI and presence of the sinus tract;
- decompensation of somatic pathology before surgical treatment.
All patients were divided into three groups. The first group comprised 30 (33.3%) individuals who received individually customized acetabular components; the second group included 30 (33.3%) patients in whom defects were compensated with augments and/or hemispherical components; the third group consisted of 30 (33.3%) patients who received antiprotrusion supportive rings.
The indication for revision total hip arthroplasty was aseptic loosening of prosthetics components or the second stage of revision surgery for PJI.
Comprehensive preoperative assessments of all patients were conducted in accordance with the recommendations of the II International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, including:
- clinical examination;
- evaluation of pelvic and hip joint x-rays;
- assessment of blood parameters: ESR and C-reactive protein;
- joint aspiration for microbiological and cytological analysis [4].
Customized acetabular component manufacturing
For 3D reconstruction of the pelvis and its defects, a three-dimensional CT scan with slices no thicker than 0.6 mm and taken within two weeks was used. Subsequently, the CT scans were sent to a design engineer, who generated a 3D model of the pelvic defect and created a trial component model using PME Planner software (MEDTEK, Russia) (Fig. 1a, b).
Collaboratively with the surgeon, a 3D model of the component was created to assess potential implant-bone contact, determine directions for fixing screws, and identify the center of hip rotation. An anteversion angle of 25° and an inclination angle of 45° were chosen (Fig. 1c).
Fig. 1. Preoperative digital planning based on 3D visualization: a — evaluation of acetabular bone defect before component removal; b — evaluation of acetabular bone defect after component removal (the red area indicates the portion to be removed for accurate positioning of the implant component); c — fixation of the custom-made acetabular component with screws
To better comprehend existing bone defects within the acetabular area, tactile 3D pelvic models were created in a 1:1 scale. These models allowed analysis of the patient's pathological hip joint anatomy, accurate classification of bone defects, and more precise positioning of the implant (Fig. 2).
Fig. 2. Tactile 3D model of the pelvis at a 1:1 scale
To enhance osteointegration, a porous structure was applied at the "implant-bone" interface, with beam thickness ranging from 0.45 to 0.50 mm. Additional recesses were created on the inner surface of the acetabular component to accommodate the caps of 6.5 mm diameter cancellous bone screws, with a depth not exceeding 0.2 mm. To monitor the lower edge of the acetabulum and facilitate positioning of both the trial model and the actual component, a depression up to 1.5 cm in diameter was requested from the manufacturers at the "6 o'clock" position (Fig. 3).
Fig. 3. Individually manufactured pelvis fragment, component, and trial model of the acetabulum. The red circle indicates an additional recess at «6 o’clock» for optional orientation during implant positioning
The inner part of the component was designed for implanting the acetabular cemented component. We used personalized implants customized by LLC "TIOS" (Russia).
Surgical technique
After preliminary preparation, the operative treatment was carried out. For patients who received individually customized constructs, an anterior-lateral approach to the hip joint was used, but in the absence of proximal femur access, it was shifted to a lateral approach. After removal of the prostetic components, wound debridment was performed using antiseptic solutions delivered through the Pulsavac system (ZimmerBiomet). Subsequently, the acetabular area was prepared, a bed for the personalized component was formed, and the 3D model was tried on using a trial component and within the wound. The congruence and stability were assessed (Fig. 4).
Fig. 4. Trial component fitting: a — on the pelvis model; b — in the wound
The implantation of the individual acetabular component followed (Fig. 5). The customized implant was secured using 6.5 mm diameter screws, with lengths from 30 to 80 mm, in accordance with preoperative planning results.
Fig. 5. Implantation of the individually designed 3D-printed acetabular component
It's noteworthy that during model formation, the designers only evaluated the presence of bone tissue. However, often soft tissues act as an interponent, adding difficulties for positioning and installing the 3D model. Therefore, meticulous preparation of the bed is essential for accurate component implantation. Postoperatively, all patients underwent control radiography, and at 3 months, CT scans were performed to assess the stability and positioning of the implanted components (Fig. 6).
Fig. 6. Evaluation of stability and positioning of the implanted 3D-printed acetabular component: а X-ray images (a) and tomograms (b) of the pelvic bones
At 3, 6, and 12-months post-surgery, radio-graphic evaluations were conducted in three zones of the acetabulum according to the DeLee-Charnley lines of radiolucency [14], in order to assess stability and potential loosening of the implants.
Loosening of the acetabular component was identified based on the following criteria:
- negative progression in radiolucency border expansion;
- fracture of screws fixing the acetabular components or their migration;
- migration of the acetabular component by more than 2 mm and alteration of its inclination angle by more than 4° [15];
- shift of the center of rotation compared to previously taken x-rays [16].
Results assessment
For statistical analysis, the following parameters were chosen: gender, age, patients' body mass index, reason for revision surgery, number of previous surgical interventions, duration of surgery, intraoperative blood loss, partial or complete revision surgery, use of dual mobility systems. Pain syndrome assessment and functional outcomes were conducted before surgery, at 3, 6, and 12 months, and subsequently annually using WOMAC, Harris Hip Score (HHS), and VAS.
After surgical treatment, the frequency and structure of complications were analyzed, including aseptic loosening, implant instability, development of PJI, and sciatic nerve neuropathy.
Statistical analysis
Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics Base 22.0 for Windows. The Kolmogorov-Smirnov test was used to check for normal distribution. HHS, WOMAC, and VAS showed non-normal distribution upon Kolmogorov-Smirnov test. Other parameters were deemed to have a normal distribution. The following non-parametric tests were used for further analysis: Wilcoxon rank-sum test (for before and after surgery parameters) and Mann-Whitney U test (comparative analysis of the first and second groups). Qualitative characteristics were described using relative (%) and absolute frequencies. Pearson's ÷2 test was used for comparing two independent groups of qualitative characteristics. Continuous variables with normal distribution were presented as M±SD, where M represents the sample mean and SD is the standard deviation. For non-normally distributed data in both groups, median (Me) [Q1, Q3] was used. Differences with p<0.05 were considered statistically significant.
RESULTS
Our analysis indicated that the study groups were comparable in terms of gender, BMI, and types of acetabular bone defects. However, the first group exhibited more cases of type IIIB bone defects, often combined with pelvic bone dissociation. The average follow-up period was 37 months (range: 26 to 56) for the first group (3D-component application), 42 months (range: 30 to 59) for the second group (augment and/or hemispherical component application), and 40 months (range: 27 to 58) for the third group (support rings application). Notably, the first group of patients had a higher number of revision surgeries in their medical history compared to the se-cond and third groups (p<0.05) (Table 1).
Table 1. Characteristics of the study groups
Indicator | First group n = 30 | Second group n = 30 | Third group n = 30 | Total n = 90 | |
Mean age, years | 58.6 | 62.1 | 72.4 | ||
BMI | 29.3 | 28.7 | 27.6 | ||
Gender | Male | 11 | 9 | 8 | 28 |
Female | 19 | 21 | 22 | 62 | |
Number of previous operations | 3.8 | 2.36 | 2.1 | ||
Defect type | |||||
IIIB | 30 | 30 | 30 | 90 | |
including pelvic bone dissociation | 15 | 3 | 4 | 22 | |
Reason for revision | |||||
Aseptic loosening | 24 | 24 | 19 | 67 | |
Second stage of PJI treatment | 6 | 6 | 11 | 23 | |
Table 2
Despite the longer duration and scope of surgical interventions in the first group, the average intraoperative blood loss was greater in the se-cond group by 23.3 ml compared to the first group, and by 98 ml compared to the third group. Out of 22 cases of pelvic bone dissociation, 15 cases involved implantation of individual constructs, 3 cases involved the use of an augment and/or hemispherical component, and in the remaining 4 cases, support rings were used. Complete intraoperative data is presented in Table 2.
Table 2. Intraoperative indicators
Indicator | First group n = 30 | Second group n = 30 | Third group n = 30 | Total n = 90 | |
Impaction bone grafting | Yes | 0 | 2 | 3 | 5 |
No | 30 | 28 | 27 | 85 | |
Operation duration, mins | 168.4 (±24.2) | 129.2 (±23.1) | 134.4 (±12.1) | ||
Intraoperative blood loss, ml | 696.7 (±127.1) | 720 (±172.2) | 622 (±152.3) | ||
Average number of screws, pcs. | 5.1 (±1.2) | 4.6 (±2.1) | 4.3 (±2.2) | ||
Use of dual mobility components, pcs | 21 | 0 | 8 | 29 | |
Revision procedure type | Partial | 6 | 14 | 9 | 29 |
Complete | 24 | 16 | 21 | 61 | |
Complications
After the revision surgeries, 27 (30%) complications were identified, with a higher number of complications observed in the second and third groups (Table 3).
Table 3. Complications after revision in three patient groups
Complication | First group n = 30 | Second group n = 30 | Third group n = 30 | Total n = 90 |
Joint instability | 2 (6.6%) | 4 (13.2%) | 4 (13.2%) | 10 (11.1%) |
Periprosthetic infection | 2 (6.6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 8 (8.8%) |
Loosening of components | 1 (3.3%) | 2 (6.6%) | 1 (3.3%) | 4 (4.4%) |
Neuropathy | 1 (3.3%) | 2 (6.6%) | 2 (6.6%) | 5 (5.5%) |
Total | 6 (20%) | 11 (36.6%) | 10 (33.3%) | 27 (30%) |
In the first group of patients with 3D constructs, 2 cases (6.6%) of deep PJI were diagnosed, one of which resulted in a fatal outcome. In the second case, successful debridment was performed, resulting in infection control, pain relief, and a positive clinical outcome.
Fig. 7. Pelvis X-rays after revision total hip replacement: a — dislocation of the prosthesis head (dual mobility system); b — after open reduction with an increase of the prosthesis head (dual mobility system)
Dislocation of the prosthesis occurred in 2 cases (6.6%): one involving a patient with a dual mobility system and the other with standard components (Fig. 7). Dislocation occurred 4 months after surgery in the patient with a dual mobility system, and 3 weeks after surgery in the patient with standard components. In both cases, an open reduction was performed with an increase in head size. Another complication occurred 23 months after partial revision arthroplasty of the right hip joint. This complication was diagnosed solely through follow-up X-rays and manifested as a fracture of one flange, but it had no impact on component stability and functional outcomes (Fig. 8).
Fig. 8. X-ray of the right hip two years after partial revision hip replacement — fracture of one of the flanges of the 3D-printed component (indicated by an arrow)
Evaluation of the outcomes of revision hip arthroplasty involves important indicators such as clinical results and pain intensity. Results assessment are presented in Table 4.
Table 4. Results assessment by different scales
Group | Harris hip score | WOMAC | VAS | |||
Before surgery | After surgery | Before surgery | After surgery | Before surgery | After surgery | |
First | 27 [25.5;29.2] | 78 [36.9;90.1] | 76 [34.7;92.2] | 7 [2.9;15.1] | 9 [8.7;10] | 0.5 [0.3;1.2] |
Second | 32 [24.3;38.2] | 72 [38.2;91.7] | 68 [31.9;82.1] | 14 [7.7;28.5] | 8 [7.9;9.8] | 1.1 [0.8;2.5] |
Third | 34 [29.2;39.5] | 70 [32.5;85.9] | 71 [32.8;85.4] | 17 [9.9;32.9] | 7 [6.7;8.9] | 1.5 [0.7;3.1] |
p<0,05.
DISCUSSION
As the number of primary hip arthroplasty surgeries in young patients increases, the frequency of revision surgeries steadily rises [17]. In 2017, for instance, more than 8 000 revision surgeries on the hip joint were performed in the UK [18].
Each revision surgery is a complex task for the surgeon, particularly when dealing with extensive bone defects of the acetabulum. Surgeons are faced with challenges like ensuring reliable implant fixation and joint stability. Competent preoperative planning is crucial to address these challenges, as accurate interpretation of bone defects minimizes the risk of error and facilitates the surgical procedure [19].
The classification of acetabular bone defects proposed by Paprosky in 1993, based on radiological signs, is convenient for preoperative planning [13]. However, it has limitations in terms of in-depth diagnosis, as it does not distinguish between limited and extensive bone defects, nor does it consider acetabular bone dissociation [20]. Therefore, detailed assessment of each acetabular defect requires CT scans followed by 3D visualization.
M.S. Ibrahim et al demonstrated favorable outcomes in revision hip arthroplasty when using impaction bone grafting and uncemented components with porous coating simultaneously. However, the authors emphasize that this method may not provide long-term implant survival for extensive acetabular defects such as type IIIA and IIIB [21]. Other researchers report high complication rates when using impaction bone grafting or allografts to address massive acetabular defects [22, 23]. The primary advantage of impaction grafting is bone mass restoration, particularly in younger patients who may require further revision in the future [24, 25].
Metal augments with tantalum coating are increasingly being used in revision surgery. However, these augments require sufficient existing bone tissue for reliable fixation and subsequent osseointegration. M. Whitehouse et al demonstrated a fairly high survival rate (92%) 10 years after revision hip arthroplasty using augments [26]. While versatile, augments often necessitate additional bone milling, reducing the available bone tissue. Moreover, the orientation of screws in augments is parallel, limiting the possibility of changing screw direction for better fixation. Consequently, in certain cases of revision hip arthroplasty, the use of augments may not adequately address the bone defect [8]. In our study, we observed 6.6% cases of aseptic loosening of components when using augments.
Another treatment option for patients with significant acetabular bone defects is supportive antiprotrusion rings. The main advantage of this method is its cost-effectiveness. However, the absence of biological fixation does not provide long-term stability for the construct [27]. Therefore, this method is not recommended for active and young patients. In our study, the average age of patients who received antiprotrusion rings was 72.4 years, classified by the WHO as elderly.
In cases of combined anterior and posterior column deficiencies of the acetabulum, none of the standard revision implants can restore the true center of femoral head rotation. The only method for reconstructing extensive acetabular bone defects is the use of individually customized constructs with three flanges. This approach enables a personalized solution for each case. While this method is more costly compared to using standard implants [28], it often becomes the only viable treatment option [29]. Additionally, the presence of a porous surface in the implant's contact area with the bone bed promotes biological fixation and osseointegration, directly affecting long-term stability [30]. M.J. Taunton et al demonstrated that the cost of a individually customized component is comparable to that of an uncemented cup with augments [31]. R.M. Tikhilov et al argue that using individual acetabular constructs is a more effective treatment strategy from an economic standpoint for extensive defects, compared to implan-ting standard acetabular components [32].
A.A. Korytkin and colleagues identified a direct correlation between postoperative center of rotation deviation and subsequent revision of the femoral component, emphasizing the importance of restoring hip joint anatomy [33]. The implanted custom-made component allows to restore a preplanned center of anatomically correct rotation.
The main drawbacks of individually customized acetabular components are complex preoperative planning and the extended manufacturing process [33]. On the other hand, this method simplifies the surgical procedure: there's no need to implant allografts, model support rings, choose augments, cages, or hemispheres for adequate fixation [8, 34]. However, in our study, implanting a personalized component took 39.2 minutes longer than installing an augment with a hemisphere, and 34.0 minutes longer than pla-cing an antiprotrusion ring and cup.
The frequency of complications after revision hip arthroplasty using individual constructs reaches 26% [35]. A.C. Kawalkar et al demonstra-ted that when using individual three-flange constructs, the incidence of dislocations ranges from 0% to 30% according to different data sources. In our study, the dislocation rate was 6.6% (2 out of 30 patients) [36].
Many authors point out the improvement in HHS results from around 25 points before surgery to 75 or more after the operation when using personalized implants [6, 9, 38, 39]. In our study, the average HHS increased from 27 [25.5; 29.2] to 78 [36.9; 90.1], which is comparable to literature data. The relatively low scores on assessment scales after surgery indicate the initially severe condition of the patients and the extent and complexity of the revision hip arthroplasty performed [6].
In our study, the results for the group of patients who received personalized constructs were 1.08 times higher on the HHS than the group with augments and 1.10 times higher than the group with antiprotrusion rings. Similar results were obtained for the WOMAC scale: the result was 1.95 times better than that of patients with augments and 2.32 times better than that of patients with antiprotrusion rings. The number of postoperative complications in the group of patients with individual constructs was 1.83 times lower than in the second group and 1.66 times lower than in the third group.
Limitations to the study
This study was limited by a relatively short follow-up, with an average period of 42 months. The postoperative observation periods varied, which could have influenced the comparative results of these three groups as well.
CONCLUSION
Individually customized constructs using 3D technology are a preferred option for revision hip arthroplasty in patients with type IIIB defects according to the Paprosky classification, especially when accompanied by pelvic bone dissociation. However, when utilizing persona-lized components, a reduction in the duration of the surgical procedure should not be expected.
DISCLAIMERS
Author contribution
Murylev V.Yu. — study concept and design, literature search and analysis, data analysis and interpretation, writing and drafting the article.
Kukovenko G.A. — study concept and design, lite-rature search and analysis, data analysis and interpretation, writing the article.
Elizarov P.M. — study concept and design, lite-rature search and analysis, data collection and processing.
Rukin Ya.A. — data collection and processing, writing and drafting the article.
Muzychenkov A.V. — data collection and proces-sing, writing and drafting the article.
Rudnev A.I. — data collection and processing, drafting the article.
Zhuchkov A.G. — data collection and processing, drafting the article.
Alekseev S.S. — data collection and processing, drafting the article.
Bobrov D.S. — data collection and processing, drafting the article.
Germanov V.G. — data collection and processing, drafting the article.
All authors have read and approved the final version of the manuscript of the article. All authors agree to bear responsibility for all aspects of the study to ensure proper consideration and resolution of all possible issues related to the correctness and reliability of any part of the work.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Disclosure competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Ethics approval. Not applicable.
Consent for publication. The authors obtained written consent from patients to participate in the study and publish the results.
About the authors
Valeriy Y. Murylev
Sechenov First Moscow State Medical Univesity; S. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Author for correspondence.
Email: nmuril@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5753-8926
Professor, Doctor of medicine (Md, PhD), The head of Moscow City Joint arthroplasty center
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991; 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowGrigorii A. Kukovenko
Sechenov First Moscow State Medical Univesity; S. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: gkukovenko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6700-0222
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991; 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowPavel M. Elizarov
Sechenov First Moscow State Medical Univesity; S. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: elizarov_07@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0217-2434
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991; 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowYaroslav A. Rukin
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University
Email: yar.rukin@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7355-8556
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991Alexey V. Muzychenkov
Sechenov First Moscow State Medical Univesity; S. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: amuzychenkov@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-3933-672X
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991; 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowAleksandr I. Rudnev
I.M.Sechenov First Moscow State Medical; UniversityS. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: ruda310895@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4490-2922
PhD applican
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 11999;2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowAleksandr G. Zhuchkov
S.P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: Nas1674249@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6486-4567
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowSemen S. Alekseev
S.P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: semen.alekseev.92@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7599-7472
травматолог-ортопед
Russian Federation, 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowDmitrii S. Bobrov
Sechenov First Moscow State Medical Univesity; S. P. Botkin Moscow City Clinical Hospital
Email: dsbmed@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1190-7498
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991; 2nd Botkinsky pr-d, 2 5, 125284, MoscowValeriy G. Germanov
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University
Email: valgers@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1639-0555
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8-2, Trubetskaya str., Moscow, 119991References
- Yoon P.W., Lee Y.K., Ahn J., Jang E.J., Kim Y., Kwak H.S. et al. Epidemiology of hip replacements in Korea from 2007 to 2011. J Korean Med Sci. 2014;29(6):852-858. doi: 10.3346/jkms.2014.29.6.852.
- Telleria J.J., Gee A.O. Classifications in brief: Paprosky classification ofacetabular bone loss. Clin Orthop Relat Res. 2013;471(11):3725-3730. doi: 10.1007/s11999-013-3264-4.
- Тихилов Р.М., Шубняков И.И., Денисов А.О. Классификации дефектов вертлужной впадины: дают ли они объективную картину сложности ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава? (критический обзор литературы и собственных наблюдений). Травматология и ортопедия России. 2019;25(1):122-141. doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-1-122-141.
- Tikhilov R.M., Shubnyakov I.I., Denisov A.O. Classifications of Acetabular Defects: Do They Provide an Objective Evidence for Complexity of Revision Hip Joint Arthroplasty? (Critical Literature Review and Own Cases). Traumatology and Orthopedics of Russia. 2019;25(1):122-141. (In Russian). doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-1-122-141.
- Parvizi J., Tan T.L., Goswami K., Higuera C., Della Valle C., Chen A.F. et al. The 2018 Definition of Periprosthetic Hip and Knee Infection: An Evidence-Based and Validated Criteria. J Arthroplasty. 2018;33(5): 1309-1314.e2. doi: 10.1016/j.arth.2018.02.078.
- Dall’Ava L., Hothi H., Henckel J., Di Laura A., Shearing P., Hart A. Comparative analysis of current 3D printed acetabular titanium implants. 3D Print Med. 2019;5(1):15. doi: 10.1186/s41205-019-0052-0.
- Корыткин А.А., Новикова Я.С., Морозова Е.А., Герасимов С.А., Ковалдов К.А., Эль Мудни Ю.М. Индивидуальные трехфланцевые вертлужные компоненты при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов со значительными дефектами вертлужной впадины: планирование, хирургическая техника, результаты. Травматология и ортопедия России. 2020;26(2):20-30. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-2-20-30.
- Korytkin A.A., Novikova Ya.S., Morozova E.A., Gerasimov S.A., Kovaldov K.A., El moudni Yo.M. Custom Triflange Acetabular Components for Revision Hip Arthroplasty in the Patients with Severe Acetabular Defects: Planning, Surgical Technique, Outcomes. Traumatology and Orthopedics of Russia. 2020;26(2):20-30. (In Russian). doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-2-20-30.
- Bozic K.J., Kamath A.F., Ong K., Lau E., Kurtz S., Chan V. et al. Comparative Epidemiology of Revision Arthroplasty: Failed THA Poses Greater Clinical and Economic Burdens Than Failed TKA. Clin Orthop Relat Res. 2015;473(6):2131-2138. doi: 10.1007/s11999-014-4078-8.
- Tikhilov R.M., Dzhavadov A.A., Kovalenko A.N., Bilyk S.S., Denisov A.O., Shubnyakov I.I. Standard Versus Custom-Made Acetabular Implants in Revision Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty. 2022;37(1):119-125. doi: 10.1016/j.arth.2021.09.003.
- Berend M.E., Berend K.R., Lombardi A.V., Cates H., Faris P. The patient-specific triflange acetabular implant for revision total hip athroplasty in patients with severe acetabular defects: planning, implantation, and results. Bone Joint J. 2018;100-B (1 Supple A):50-54. doi: 10.1302/0301-620X.100B1.BJJ-2017-0362.R1.
- Zampelis V., Flivik G. Custom-made 3D-printed cup-cage implants for complex acetabular revisions: evaluation of pre-planned versus achieved positioning and 1-year migration data in 10 patients. Observational Study. Acta Orthop. 2021;92(1):23-28. doi: 10.1080/17453674.2020.1819729.
- Yao A., George D.M., Ranawat V., Wilson C.J. 3D Printed Acetabular Components for Complex Revision Arthroplasty. Indian J Orthop. 2021;55(3):786-792. doi: 10.1007/s43465-020-00317-x.
- Wyatt M.C. Custom 3D-printed acetabular implants in hip surgery – innovative breakthrough or expensive bespoke upgrade? Hip Int. 2015. 25(4):375-379. doi: 10.5301/hipint.5000294. .
- Aprato A., Giachino M., Bedino P., Mellano D., Piana R., Massè A. Management of Paprosky type three B acetabular defects by custom-made components: early results. Int Orthop. 2019;43(1):117-122. doi: 10.1007/s00264-018-4203-5.
- DeLee J.G. Charnley J. Radiological demarcation of cemented sockets in total hip replacement. Clin Orthop Relat Res. 1976;(121):20-32. doi: 10.1097/00003086-197611000-00003.
- Jeong M., Kim H.J., Lim S.J., Moon Y.W., Park Y.S. Revision total hip arthroplasty using tantalum augmentin patients with Paprosky III or IV acetabular bonedefects: a minimum 2-year follow up study. Hip Pelvis. 2016;28(2):98-103. doi: 10.5371/hp.2016.28.2.98.
- Shi H.F., Xiong J., Chen Y.X., Wang J.f., Wang Y.H. Radiographic analysis of the restoration of hip joint center following open reduction and internal fixation of acetabular fractures: a retrospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15(1):277. doi: 10.1186/1471-2474-15-277.
- Weber M., Renkawitz T., Voellner F., Craiovan B., Greimel F., Worlicek M. et al. Revision Surgery in Total Joint Replacement Is Cost-Intensive. Biomed Res Int. 2018;2018:8987104. doi: 10.1155/2018/8987104.
- The National Joint Register. 15th Annual report; 2018. https://www.hqip.org.uk/resource/national-joint-registry-15th-annual-report-2018/#.Y9FWQpZn2Uk.
- Durand-Hil M., Henckel J., Di Laura A., Hart A. Can custom 3D printed implants successfully reconstruct massive acetabular defects? A 3D-CT assessment. J Orthop Res. 2020;38(12):2640-2648. doi: 10.1002/jor.24752.
- Тихилов Р.М., Джавадов А.А., Коваленко А.Н., Денисов А.О., Демин А.С., Ваграмян А.Г. и др. Какие особенности дефекта вертлужной впадины влияют на выбор ацетабулярного компонента при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава? Травматология и ортопедия России. 2020;26(2):31-49. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-2-31-49.
- Tikhilov R.M., Dzhavadov A.A., Kovalenko A.N., Denisov A.O., Demin A.S., Vahramyan A.G. et al. What Characteristics of the Acetabular Defect Influence the Choice of the Acetabular Component During Revision Hip Arthroplasty? Traumatology and Orthopedics of Russia. 2020;26(2):31-49. (In Russian). doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-2-31-49.
- Ibrahim M.S., Raja S., Haddad F.S. Acetabular impaction bone grafting in total hip replacement. Bone Joint J. 2013;95-B (11 Suppl A):98-102. doi: 10.1302/0301-620X.95B11.32834.
- Lee P.T., Raz G., Safir O.A., Backstein D.J., Gross A.E. Long-term results for minor column allografts in revision hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(12):3295-3303. doi: 10.1007/s11999-010-1591-2.
- Buttaro M.A., Comba F., Pusso R., Piccaluga F. Acetabular revision with metal mesh, impaction bone grafting, and a cemented cup. Clin Orthop Relat Res. 2008;466(10):2482-2490. doi: 10.1007/s11999-008-0442-x.
- Lakstein D., Backstein D., Safir O., Kosashvili Y., Gross A.E. Trabecular Metal cups for acetabular defects with 50% or less host bone contact. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(9):2318-2324. doi: 10.1007/s11999-009-0772-3.
- Mancino F., Cacciola G., Di Matteo V., De Marco D., Greenberg A., Perisano C. et al. Reconstruction options and outcomes for acetabular bone loss in revision hip arthroplasty. Orthop Rev (Pavia). 2020;12(Suppl 1):8655. doi: 10.4081/or.2020.8655.
- Whitehouse M.R., Masri B.A., Duncan C.P., Garbuz D.S. Continued good results with modular trabecular metal augments for acetabular defects in hip arthroplasty at 7 to 11 years. Clin Orthop Relat Res. 2015;473(2):521-527. doi: 10.1007/s11999-014-3861-x.
- Hansen E., Shearer D., Ries M.D. Does a cemented cage improve revision THA for severe acetabular defects? Clin Orthop Relat Res. 2011;469(2):494-502. doi: 10.1007/s11999-010-1546-7.
- Eltorai A.E., Nguyen E., Daniels A.H. Three-Dimensional Printing in Orthopedic Surgery. Orthopedics. 2015;38(11):684-687. doi: 10.3928/01477447-20151016-05.
- Gruber M.S., Jesenko M., Burghuber J., Hochreiter J., Ritschl P., Ortmaier R. Functional and radiological outcomes after treatment with custom-made acetabular components in patients with Paprosky type 3 acetabular defects: short-term results. Clinical Trial. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):835. doi: 10.1186/s12891-020-03851-9.
- Berasi C.C. 4th, Berend K.R., Adams J.B., Ruh E.L., Lombardi A.V. Jr. Are custom triflange acetabular components effective for reconstruction of catastrophic bone loss? Clin Orthop Relat Res. 2015;473(2):528-535. doi: 10.1007/s11999-014-3969-z.
- Taunton M.J., Fehring T.K., Edwards P., Bernasek T., Holt G.E., Christie M.J. Pelvic discontinuity treated with custom triflange component: a reliable option. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(2):428-434. doi: 10.1007/s11999-011-2126-1.
- Тихилов Р.М., Джавадов А.А., Денисов А.О., Чилилов А.М., Черкасов М.А., Билык С.С. и др. Анализ экономической эффективности использования индивидуальных и серийных вертлужных конструкций при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. Гений ортопедии. 2022;28(2): 234-240. doi: 10.18019/1028-4427-2022-28-2-234-240.
- Tikhilov R.M., Dzhavadov A.A., Denisov A.O., Сhililov A.M., Cherkasov M.A., Bilyk S.S. et al. Cost-effectiveness analysis of custom-made and serial acetabular components in revision hip arthroplasty. Orthopaedic Genius. 2022;28(2):234-240. doi: 10.18019/1028-4427-2022-28-2-234-240.
- Корыткин А.А., Захарова Д.В., Новикова Я.С., Горбатов Р.О., Ковалдов К.А., Эль Мудни Ю.М. Опыт применения индивидуальных трехфланцевых вертлужных компонентов при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. Травматология и ортопедия России. 2017;23(4): 101-111. doi: 10.21823/2311-2905-2017-23-4-101-111.
- Korytkin A.A., Zakharova D.V., Novikova Ya.S., Gorbatov R.O., Kovaldov K.A., El Moudni Y.M. Custom Triflange acetabular components in Revision Hip Replacement (Experience Review). Traumatology and Orthopedics of Russia. 2017;23(4):101-111. (In Russian). doi: 10.21823/2311-2905-2017-23-4-101-111.
- Goodman G.P., Engh C.A.Jr. The custom triflange cup: build it and they will come. Bone Joint J. 2016;98-B (1 Suppl A):68-72. doi: 10.1302/0301-620X.98B.36354.
- Van Eemeren A., Vanlommel J., Vandekerckhove M. Acetabular reconstruction with a custom-made triflange acetabular component through direct anterior approach — A case report. J Clin Orthop Trauma. 2020;11(Suppl 2): S211-S213. doi: 10.1016/j.jcot.2020.02.006.
- Kawalkar A.C., Kalanie A., Neil M.J. Excellent Midterm Results of Triflange Patient Matched Implants for Extensive Acetabular Bone Defect. Hip Pelvis. 2021;33(2):87-95.doi: 10.5371/hp.2021.33.2.87.
- Berasi C.C. 4th., Berend K.R., Adams J.B., Ruh E.L., Lombardi A.V. Jr. Are custom triflange acetabular components effective for reconstruction of catastrophic bone loss? Clin Orthop Relat Res. 2015;473(2):528-535. doi: 10.1007/s11999-014-3969-z.
- Citak M., Kochsiek L., Gehrke T., Haasper C., Suero E.M., Mau H. Preliminary results of a 3D-printed acetabular component in the manage ment of extensive defects. Hip Int. 2018;28(3):266-271. doi: 10.5301/hipint.5000561.
- DeBoer D.K., Christie M.J., Brinson M.F., Morrison J.C. Revision total hip arthroplasty for pelvic discontinuity. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(4):835-840. doi: 10.2106/JBJS.F.00313.
Supplementary files