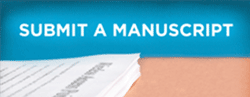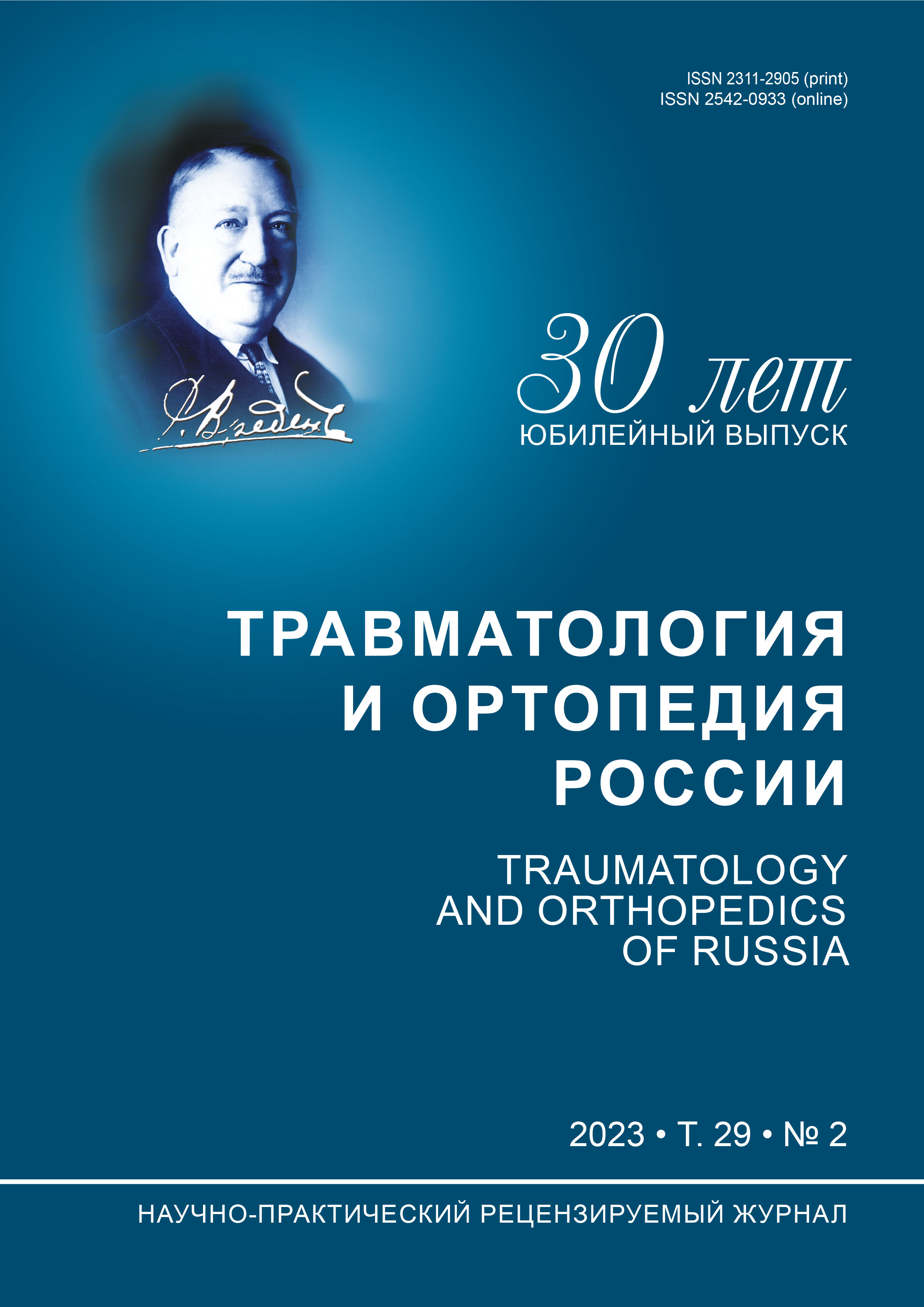Anatomical and Biomechanical Features of the Lateral Compartment of the Knee and Associated Technical Aspects of Unicompartmental Knee Arthroplasty: Lecture
- Authors: Chugaev D.V.1, Kravtsov E.D.1, Kornilov N.N.1, Kulyaba T.A.1
-
Affiliations:
- Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
- Issue: Vol 29, No 2 (2023)
- Pages: 144-158
- Section: Lectures
- URL: https://journal.rniito.org/jour/article/view/2042
- DOI: https://doi.org/10.17816/2311-2905-2042
- ID: 2042
Cite item
Full Text
Abstract
The frequency of lateral unicompartmental knee arthroplasty is estimated at 1% of the total volume of knee arthroplasties, according to contemporary literature. Recent studies analyzing this type of surgical intervention indicate that when performed with proper indications and technical accuracy, it is equally effective and safe as total knee arthroplasty. Potential advantages of partial knee replacement include reduced invasiveness compared to total knee arthroplasty, lower perioperative blood loss, faster patient rehabilitation, and preservation of native joint proprioception. However, it is important to consider that successful implementation of lateral unicompartmental knee arthroplasty requires not only appropriate patient selection but also technical proficiency, advanced operating room equipment, and precise surgical techniques performed by experienced surgeons. Failure to meet these conditions can negate the potential benefits and may lead to early revision surgery. It is evident that unicompartmental knee arthroplasty is not simply a half-operation of total joint replacement, and the lateral compartment’s partial arthroplasty only shares general similarities with the more popular and established medial unicompartmental knee arthroplasty. The differences lie primarily in the complex anatomy and biomechanics of the lateral compartment, which present a challenging task even with the use of modern anatomically designed implants. The development of robotic surgery and personalized joint implants may help overcome these challenges more effectively. However, in our current routine practice, we rely on conventional instruments and strive to optimize our techniques. The authors of this article aim to provide an overview of the contemporary understanding of the anatomy and biomechanics of the lateral compartment of the knee and the specific technical aspects related to partial lateral arthroplasty using a fixed tibial platform implant.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
«Вся эта книга об одном только протезе коленного сустава, и более того, только о половине протеза…», — писали P.R. Aldinger с соавторами в своем руководстве по одномыщелковому эндопротезированию, несколько иронизируя над высокой степенью специализации современной ортопедии [1]. В то же время, если какое-то специфическое хирургическое вмешательство является эффективным и безопасным, пусть и для небольшой группы пациентов, стоит ли от него отказываться?
Так, в настоящее время в структуре артропластики коленного сустава в разных ортопедических клиниках частичная артропластика составляет от 5 до 40%. Но если отдельно проанализировать количество операций по замещению латерального отдела коленного сустава, то окажется, что их число не превышает 1% от общего числа вмешательств данного профиля [2]. Это обусловлено рядом причин, из которых наиболее важными являются меньшее число пациентов с вальгусной деформацией в популяции, большая разнородность частоты выполнения частичного эндопротезирования в мире от страны к стране, противоречивые результаты ранних исследований, оценивавших эффективность и безопасность данной операции, а также технические трудности, связанные с хирургическим вмешательством и обусловленные уникальностью анатомо-функционального строения латерального отдела коленного сустава. Освещению технических путей преодоления проблем, специфичных для частичного замещения латерального отдела коленного сустава, и посвящена данная статья.
Анатомические и биомеханические особенности латерального отдела коленного сустава
С точки зрения анатомии и биомеханики латеральный отдел коленного сустава значительно отличается от медиального, что делает хирургическую технику его парциального замещения искусственным суставом высокоспецифичной. Анатомические различия медиального и латерального отделов коленного сустава включают ряд важных аспектов: различия в задних наклонах (slope) латерального и медиального мыщелков большеберцовой кости, а также разную величину их переднезаднего размера [3, 4]. Несмотря на то, что костные ориентиры латерального и медиального отделов большеберцовой кости во фронтальной плоскости расположены примерно на одном уровне, за счет хрящевой ткани латеральное плато имеет более выпуклую форму и расположено несколько проксимальнее, чем медиальное плато. Также немаловажно отметить, что латеральный мениск имеет О-образную форму, более подвижен, шире и толще С-образного медиального мениска [5]. Обращая внимание на данную особенность, O.C. Brantigan и A.F. Voshell писали: «Медиальный мыщелок бедренной кости является осью вращения коленного сустава» [6]. Под этим авторы, очевидно, понимали то, что при сгибании медиальный мыщелок бедренной кости, имея выпуклую форму и практически не смещаясь, скользит в углублении медиального мыщелка большеберцовой кости, в то время как латеральные мыщелки бедренной и большеберцовой костей имеют выпуклую форму, в связи с чем смещения наружных мыщелков костей, образующих коленный сустав, друг относительно друга, более значительны. Также важно отметить, что при сгибании медиальный мениск практически недвижим, в то время как латеральный мениск, особенно в крайних углах сгибания, значительно транслируется кзади [7] (рис. 1).
Рис. 1. Различия в мобильности латерального (a) и медиального (b) менисков коленного сустава
Fig. 1. Differences in mobility of the lateral (a) and medial (b) menisci
Движение мыщелков бедренной и большеберцовой костей является сложным биомеханическим процессом, в основе которого лежат качение и скольжение. При сгибании нижней конечности в коленном суставе суставные поверхности бедренной и большеберцовой костей в переднезаднем направлении движутся неравномерно: из положения полного разгибания в первые 10–15° сгибания происходит качение мыщелков бедренной кости по мыщелкам большеберцовой кости, далее в медиальном отделе начинается скольжение, в то время как в латеральном отделе продолжается качение примерно до 20° сгибания. Данное обстоятельство объясняет, почему расстояние, проходимое латеральным мыщелком, больше, чем медиальным (рис. 2).
Рис. 2. Разница в длине треков мыщелков бедренной кости относительно плато большеберцовой кости на различных уровнях сгибания/разгибания коленного сустава
Fig. 2. The difference in track lengths of the femoral condyles relative to the tibial plateau at different levels of knee flexion/extension
При дальнейшем сгибании соотношение качения и скольжения значительно меняется, так что при максимальном сгибании происходит только скольжение. Качение при первых 20° сгибания обеспечивает коленному суставу максимальную стабильность, в то время как дальнейшее скольжение делает сустав более мобильным и дает больше возможности для ротации. Данные особенности объясняют наибольшую подвижность латерального отдела.
Еще одна важная особенность латерального отдела КС состоит в том, что мыщелки бедренной кости асимметричны и разновелики: медиальный мыщелок примерно на 1,3–1,5 см длиннее в переднезаднем направлении, чем латеральный. Но, несмотря на это, площадь контакта артикулирующих поверхностей мыщелков латерального отдела больше, чем медиального, ввиду описанных ранее анатомических и биомеханических особенностей. Когда бедренная кость движется по большеберцовой при последних 20° разгибания, осуществляется реализация так называемого screw home mechanism (screw locking mechanism), или «механизма доворачивания винта». Его суть заключается в том, что при последних 15–20° разгибания в коленном суставе происходит «доворачивание» голени, т.е. ее наружная ротация, становящаяся максимальной при полном разгибании голени за счет натяжения передней крестообразной связки и вектора действия четырехглавой мышцы бедра [8]. Наружная ротация голени приводит к натяжению передней крестообразной связки и глубокой порции поверхностной медиальной коллатеральной связки, что образует «замок коленного сустава», обеспечивая ему ротационную устойчивость [9, 10, 11]. Понимание данной особенности функционирования коленного сустава очень важно для латерального одномыщелкового эндопротезирования. Чтобы добиться максимально приближенной к нативной биомеханики движения, хирургу необходимо сохранить этот механизм, ориентировав бедренный компонент одномыщелкового эндопротеза в положение наружной ротации, а большеберцовый компонент — в положение внутренней ротации, чтобы при реализации screw home mechanism не происходило импиджмента между компонентами и сохранялась достаточная рабочая площадь для артикуляции компонентов (см. ниже описание хирургической техники).
Показания и противопоказания к латеральному одномыщелковому эндопротезированию
Показания:
- изолированный идиопатический гонартроз с полнослойной потерей хряща в латеральном отделе сустава, подтвержденный с помощью МРТ и рентгенограмм (в т.ч. с нагрузкой) (рис. 3);
Рис. 3. Признаки локального поражения суставного хряща латерального отдела коленного сустава: а — магнитно-резонансная томограмма латерального отдела коленного сустава; b — рентгенограммы коленного сустава в прямой и боковой проекциях
Fig. 3. Signs of local cartilage damage in the lateral knee compartment: a — MRI images; b — X-rays images in anterior-posterior and lateral projections
- асептический некроз латерального мыщелка бедренной или большеберцовой кости;
- посттравматический латеральный гонартроз вследствие внутрисуставных переломов наружных мыщелков бедренной или большеберцовой костей.
Критерии отбора пациентов:
- интактные медиальный и пателлофеморальный отделы коленного сустава;
- функционально состоятельные крестообразные и коллатеральные связки коленного сустава;
- мануально корригируемая до нейтральной оси вальгусная деформация.
Противопоказания
Общие противопоказания для выполнения частичного эндопротезирования являются сходными для любого планового ортопедического вмешательства: наличие активного воспалительного процесса, как локального, так и генерализованного, либо острых или декомпенсированных хронических заболеваний.
Среди частных противопоказаний необходимо выделить следующие:
- распространенный гонартроз с поражением медиального и/или пателлофеморального отделов коленного сустава;
- несостоятельность крестообразных или коллатеральных связок коленного сустава;
- фиксированная сгибательная/разгибательная контрактура или вальгусная деформация.
Предоперационное обследование пациентов
Параметры, оцениваемые в ходе клинического обследования пациента:
- степень выраженности хромоты;
- потребность в использовании дополнительной опоры при ходьбе;
- тяжесть деформации нижней конечности на уровне коленного сустава во фронтальной и сагиттальной плоскостях;
- амплитуда пассивных и активных движений;
- степень фронтальной и сагиттальной связочной нестабильности;
- наличие контрактуры коленного сустава, ее тип и выраженность;
- возможность пассивной коррекции фронтальной деформации.
Рентгенологические исследования, выполняемые в предоперационном периоде:
- рентгенография коленного сустава в двух проекциях в положении лежа;
- рентгенография коленного сустава в прямой проекции с нагрузкой (в положении стоя со сгибанием на уровне коленного сустава 20–30º);
- телерентгенография (панорамный снимок) обеих нижних конечностей (рис. 4).
Рис. 4. Телерентгенограмма пациента с латеральным гонартрозом перед выполнением парциальной артропластики
Fig. 4. Full-length X-ray of a patient with lateral knee osteoarthritis prior to partial arthroplasty
Параметры, оцениваемые в предоперационном периоде:
- стадия деформирующего артроза;
- характер деструктивных изменений костей, формирующих коленный сустав;
- выраженность фронтальной деформации конечности и локализация ее вершины [11].
Особенности одномыщелкового эндопротезирования латерального отдела коленного сустава на примере имплантата с фиксированным полиэтиленовым вкладышем
Укладка пациента
Операцию выполняют в положении пациента на спине, оперируемая нижняя конечность фиксируется держателем. Используют пневмотурникет с давлением в манжете 250–300 мм рт. ст. в зависимости от объема мягких тканей бедра либо с использованием формулы: систолическое давление пациента + 150 мм рт. ст.
Анестезиологическое пособие
Выполняется спинномозговая анестезия с внутривенной седацией, если соматическое состояние пациента не требует иного вида обезболивания.
Тромбопрофилактика
- низкомолекулярный гепарин (дозировку подбирают с учетом возраста, веса и коморбидности пациента) за 12 ч до операции;
- компрессионный эластический трикотаж I степени компрессии;
- низкомолекулярный гепарин с переводом на пероральные антикоагулянты до 21-го дня послеоперационного периода либо пероральные антикоагулянты с первого дня после операции в зависимости от уровня рисков пациента.
После проведенного клинического и рентгенологического обследований должны быть уточнены показания и противопоказания, а также возможность выполнения операции одномыщелкового эндопротезирования у данного пациента. В то же время необходимо предусмотреть возможность интраоперационного перехода на систему для тотальной артропластики.
Пациентам выполняют переднелатеральный мини-инвазивный доступ к коленному суставу (рис. 5).
Рис. 5. Предоперационная разметка анатомических ориентиров и схема доступа к коленному суставу
Fig. 5. Preoperative marking of anatomical landmarks and access scheme to the knee joint
Кожный разрез длиной 7–10 см осуществляют по краю надколенника от его верхнего края до латеральной поверхности бугристости большеберцовой кости. В этих же пределах производят латеральную артротомию, обходя надколенник снаружи и формируя при этом несвободный жировой лоскут из тела Гоффа. При этом ножка жирового лоскута остается фиксированной к переднелатеральной части капсулы сустава, что позволяет не нарушать кровоснабжение лоскута за счет сохранения латеральной нижней артерии (рис. 6).
Рис. 6. Вид коленного сустава после выполнения латеральной артротомии. Пинцетом отведен жировой лоскут, который будет использован для укрытия дефекта в капсуле сустава, формирующегося после коррекции вальгусной деформации
Fig. 6. View of the knee joint after a lateral arthrotomy. The fatty flap is retracted with forceps and will be used to cover the capsule defect that occurs after correction of valgus deformity
Во время выполнения хирургического доступа при необходимости может быть выполнена парциальная резекция латеральной фасетки надколенника. Данный хирургический прием улучшает визуализацию латерального отдела коленного сустава и устраняет латеральный остеофит, формирующий гиперпрессию надколенника и мыщелка бедренной кости.
В ходе оперативного доступа субпериостально отслаивают часть волокон большеберцовой мышцы и передний край прикрепления подвздошно-большеберцового тракта к большеберцовой кости в объеме, достаточном для адекватного позиционирования большеберцового резекторного блока (рис. 7).
Рис. 7. Позиционирование большеберцового резекторного блока
Fig. 7. Positioning of the tibial resection block
Резецируют краевые остеофиты с латерального мыщелка большеберцовой кости, при этом оставляя краевые костно-хрящевые разрастания на латеральном мыщелке бедренной кости, которые в последующем послужат опорой для бедренного компонента эндопротеза ввиду необходимости его латерализации. Осуществляют ревизию полости коленного сустава, убеждаясь в изолированности гонартроза, оценивают глубину и характер износа суставных поверхностей латеральных мыщелков бедренной и большеберцовой костей, сохранность медиального отдела, в том числе мениска; состоятельность передней крестообразной связки; состояние пателлофеморального сочленения; наличие остеофитов на надколеннике; сохранность хрящевого покрова на его суставной поверхности. Убедившись в том, что пациент соответствует критериям имплантации одномыщелкового эндопротеза, приступают к выполнению опилов большеберцовой кости. Опилы латерального отдела плато осуществляют, располагая резекторный блок таким образом, чтобы сагиттальный опил создавал внутреннюю ротацию формируемого ложа для большеберцового компонента относительно оси голени (рис. 8).
Рис. 8. Схема, демонстрирующая направление корректного выполнения сагиттального опила большеберцовой кости через связку надколенника
Fig. 8. The correct direction for performing the sagittal cut of the tibial plateau through the patellar ligament
Внутренняя ротация большеберцового компонента позволяет определить его адекватный размер, который при эндопротезировании латерального отдела коленного сустава, как правило, выбирают из первых двух размеров в линейке. При выполнении сагиттального опила большеберцовой кости по краю связки надколенника и позиционировании большеберцового компонента с внутренней ротацией даже начальные размеры тибиальных компонентов будут велики. Для обеспечения корректности данного опила его необходимо выполнять через связку надколенника, предварительно расслоив ее волокна продольно. Лезвие реципрокной пилы располагается таким образом, чтобы плоскость резекции проходила через латеральный бугорок межмыщелкового возвышения (рис. 9).
Рис. 9. Выполнение сагиттального опила большеберцовой кости через связку надколенника
Fig. 9. Performing the sagittal cut of the tibial plateau through the patellar ligament
В горизонтальной плоскости позиционируют резекторный тибиальный блок таким образом, чтобы глубина резекции была минимальной, не выходя за пределы «костной эрозии» мыщелка, не превышала 1 мм в центральной части мыщелка большеберцовой кости, чтобы был сохранен нативный наклон суставной поверхности кзади, составляющий для латерального мыщелка большеберцовой кости условные 0º (рис. 10).
Рис. 10. Выполнение опила большеберцового плато в горизонтальной плоскости
Fig. 10. The horizontal cut of the tibial plateau
После выполнения опилов большеберцового плато в двух плоскостях необходимо извлечь костный фрагмент, желательно не фрагментируя его, чтобы оценить размеры компонента и локализацию износа (рис. 11, 12).
Рис. 11. Морфологическая картина опила латерального мыщелка большеберцовой кости при латеральном идиопатическом гонартрозе
Fig. 11. Morphological image of the lateral tibial plateau cut in lateral idiopathic
Рис. 12. Морфологическая картина опила латерального мыщелка большеберцовой кости при латеральном посттравматическом гонартрозе: а — вид сверху; b — вид снизу. Консолидированный с деформацией перелом латерального мыщелка большеберцовой кости
Fig. 12. Morphological image of the lateral tibial plateau cut in lateral post-traumatic knee osteoarthritis: a — view from above; b — view from below. Consolidated lateral tibial plateau fracture with deformity
J. Weidow с соавторами, подчеркивая различия анатомических и биомеханических особенностей медиального и латерального отделов коленного сустава, установили, что при изолированном медиальном артрозе изнашивание хряща на большеберцовой кости локализовано преимущественно в передних отделах, в то время как при латеральном гонартрозе износ больше в центральной и задней частях наружного мыщелка [13].
После выполнения резекции большеберцовой кости определяют предварительный размер сформированных разгибательного и сгибательного промежутков: убеждаются в том, что минимальный по толщине спейсер-блок не приводит к гиперкоррекции вальгусной деформации. Но при этом спейсер-блок туго вводится в положении полного разгибания конечности в коленном суставе, а в положении сгибания в коленном суставе 20° при осуществлении варизирующего усилия открывается щель в 2–3 мм. В положении легкого сгибания нивелируется натяжение задней капсулы коленного сустава между спейсер-блоком и бедренной костью. При соблюдении данного условия оценивают ориентировочную толщину примерочного вкладыша. Задав выбранным вкладышем, фиксированным в резекторном блоке для дистального опила бедренной кости необходимое натяжение разгибательного промежутка, производят фиксацию блока. Через прорезь резекторного блока производят дистальную резекцию латерального мыщелка бедренной кости (рис. 13).
Рис. 13. Установка дистального резекторного блока и осуществление резекции бедренной кости
Fig. 13. Installation of the distal resection block and resection of the femur
Удаляют остатки латерального мениска и выполняют окончательную оценку величины разгибательного промежутка и предварительную оценку величины сгибательного промежутка в положении 90º сгибания в коленном суставе (рис. 14).
Рис. 14. Оценка разгибательного промежутка спейсер-блоком
Fig. 14. Assessment of the extension gap using a spacer block
При обеспечении адекватного мягкотканного баланса приступают к завершающим опилам латерального мыщелка бедренной кости: позиционируют резекторный блок по периферии сохраненного краевого остеофита, смещая его максимально латерально, повторяя положение латерального мыщелка, анатомически отклоненного на 10–20º относительно медиального. В заданном положении наружной ротации выполняют косой и задний опилы бедренной кости (рис. 15).
Рис. 15. Позиционирование бедренного резекторного блока перед выполнением опилов
Fig. 15. Positioning of the femoral resection block prior to performing the cuts
Положение наружной ротации бедренного и внутренней ротации большеберцового компонентов эндопротеза обусловлено сложной биомеханикой латерального отдела коленного сустава и позволяет реализовать механизм полицентрической ротации латерального мыщелка бедренной кости относительно латерального мыщелка большеберцовой кости. Такое позиционирование компонентов позволяет обеспечить максимально возможную площадь для их опоры на кости и препятствует импинджменту компонентов друг о друга.
После выполнения финальных опилов бедренной и большеберцовой костей и формирования отверстий под ножки компонентов эндопротеза осуществляют пробную сборку эндопротеза и оценивают кинематику протезированного сустава (рис. 16).
Рис. 16. Вид коленного сустава после имплантации примерочных тибиального и бедренного компонентов эндопротеза
Fig. 16. View of the knee joint after implantation of the trial tibial and femoral components
После пробной сборки определяют степень восстановления оси конечности (недопустимой является гиперкоррекция вальгусной деформации), отсутствие импинджмента бедренного компонента о край сагиттального опила большеберцовой кости и межмыщелкового возвышения, соосность скольжения бедренного компонента по поверхности большеберцового компонента с восстановлением screw-home механизма, восстановление нативного натяжения латеральных связочных структур на протяжении всей амплитуды движений в коленном суставе (корректным считают формирующееся при варусном стресс-тесте коленного сустава пространство между компонентами эндопротеза в 2–3 мм).
При адекватном позиционировании компонентов эндопротеза выполняют окончательную имплантацию (рис. 17).
Рис. 17. Вид коленного сустава после имплантации компонентов эндопротеза
Fig. 17. View of the knee joint after implantation of the endoprosthesis components
Операционную рану ушивают послойно без дренирования полости коленного сустава, на следующий день выполняют рентгенологический контроль положения компонентов эндопротеза (рис. 18).
Рис. 18. Рентгенограммы после выполненного одномыщелкового эндопротезирования латерального отдела коленного сустава в прямой (а) и боковой (b) проекциях; телерентгенограмма (c)
Fig. 18. X-ray images after performing lateral unicompartmental knee arthroplasty in anterior-posterior (a) and lateral (b) projections; full-length X-ray (c)
Послеоперационное ведение и реабилитационная программа пациентов после латерального одномыщелкового эндопротезирования не отличается от реабилитации после частичной артропластики медиального отдела. Внешняя иммобилизация (гипсовая повязка, тутор, шарнирный брейс) не применяется, пациенты начинают ходить с дополнительной опорой на костыли с 1-го дня после операции. В это же время начинается разработка движений в прооперированном коленном суставе в пределах, лимитированных болевыми ощущениями.
ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время одномыщелковое эндопротезирование латерального отдела коленного сустава в структуре современной артропластики выполняется примерно в 10 раз реже, чем эндопротезирование медиального отдела [14]. Это можно объяснить тем, что изолированный латеральный гонартроз является довольно редкой ситуацией, встречающейся примерно у 1% людей с деформирующим артрозом коленного сустава [14]. Несмотря на подобную «эксклюзивность», тема парциальной замены коленного сустава остается предметом повышенного интереса в современной ортопедической литературе. Известно, что ранние исследования, изучавшие данную проблему, показали большое количество неудовлетворительных результатов данной операции. Однако изменившийся подход к отбору пациентов, более совершенная хирургическая техника, а также конструкция современных имплантатов позволили сделать данное вмешательство более прогнозируемым и успешным [15, 16, 17, 18, 19].
Последние исследования, изучающие частичное эндопротезирование коленного сустава, показали ряд его преимуществ перед тотальным: менее инвазивный доступ, меньшие по объему резекции костей и мягкотканные релизы, малая кровопотеря и сохранение нативной проприорецепции прооперированного сустава [20, 21, 22, 23, 24]. Кроме того, сокращается процент случаев ранней перипротезной инфекции и риск тромбоэмболических осложнений, уменьшается болевой синдром в раннем послеоперационном периоде, а амплитуда движений в коленном суставе увеличивается [22, 24]. Стоит также отметить более короткий срок пребывания больных в стационаре и значительно более раннюю активизацию пациентов, перенесших одномыщелковое эндопротезирование по сравнению с тотальной артропластикой [25, 26].
Несмотря на вышеуказанные преимущества малоинвазивной хирургии, в случаях, когда показано выполнение лишь одномыщелкового эндопротезирования латерального отдела коленного сустава при сохранном медиальном отделе, большинство оперирующих травматологов-ортопедов предпочитают выполнение тотального эндопротезирования коленного сустава. Так, S. Campi с соавторами отмечают, что только 10% хирургов, занимающихся эндопротезированием коленного сустава, владеют техникой парциальной артропластики [27].
Изучая историю одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава, S. Johal с соавторами отмечают, что одномыщелковое эндопротезирование латерального отдела коленного сустава выполняется примерно в 10 раз реже, чем медиальное, объясняя это недостаточностью имеющихся литературных данных о данном типе артропластики, что также является весомым аргументом для практикующего ортопеда, который стоит перед вопросом: какой тип вмешательства будет оптимальным для данного пациента? Анализируя исторические успехи и неудачи данной операции, авторы подчеркивают, что для одномыщелкового эндопротезирования тщательный отбор пациентов и опыт хирурга имеют важнейшее значение [14]. Хотя в рамках дискуссии можно заметить, что данные факторы являются абсолютно базовыми и облигатными для любого ортопедического вмешательства.
T. Bonanzinga с соавторами, проанализировав 47 научных работ на тему парциальной артропластики латерального отдела коленного сустава, пришли к выводу, что выживаемость имплантатов при пятилетнем наблюдении и удовлетворенность пациентов результатами операции сравнимы с таковыми при частичном эндопротезировании медиального отдела и тотальном эндопротезировании коленного сустава. Тем не менее авторы отмечают недостаточное количество и качество исследований, посвященных данному типу парциальной артропластики [28].
E. Deroche с соавторами, оценив в своем метаанализе 268 случаев одномыщелкового эндопротезирования латерального отдела коленного сустава, пришли к выводу, что данный тип вмешательства показал отличные результаты выживаемости имплантатов и удовлетворенности пациентов при сроках наблюдения от 5 до 23 лет. Стоит отметить, что основной причиной ревизионных вмешательств авторы считают прогрессирование артроза в других отделах коленного сустава, подчеркивая важность соблюдения строгих показаний к данной операции и требований к прецизионной хирургической технике [29].
Обзор S.D. Buzin с соавторами также показывает, что одномыщелковое эндопротезирование латерального отдела коленного сустава демонстрирует превосходные долгосрочные клинические результаты и выживаемость имплантатов при выполнении данного типа эндопротезирования у тщательно отобранных пациентов. Причем, эти выводы применимы ко всем типам имплантатов: с мобильным и фиксированным вкладышем, а также к протезам с металлическим тибиальным компонентом (metal-backed tibial component) или полностью полиэтиленовых (all-poly tibial component). Такие причины ревизий, как перелом бедренного компонента, перелом большеберцового компонента и остаточная вальгусная деформация коленного сустава, отмечались в более ранних работах и для более «старых» типов имплантов [30]. Основными причинами ревизионного вмешательства после парциального латерального эндопротезирования являются прогрессирование остеоартрита других отделов коленного сустава (медиального и пателлофеморального) и асептическое расшатывание компонентов эндопротеза. И все же, несмотря на редкие случаи необходимости ревизионного вмешательства, частота ревизий при одномыщелковом эндопротезировании латерального отдела коленного сустава вполне сравнима с парциальной артропластикой медиального компартмента и тотальным эндопротезированием коленного сустава [30].
Однако не все авторы согласны с мнением, что разные типы дизайна одномыщелкового эндопротеза одинаково хороши. Так, например, говоря о системах с мобильным вкладышем, T. Walker с соавторами в своем метаанализе отмечают, что его использование при парциальном латеральном эндопротезировании коленного сустава у большой группы пациентов в 15% случаев привело к ревизионному вмешательству в течение первых пяти лет после первичного эндопротезирования, при этом основной причиной стал вывих мобильного вкладыша [31].
J.A. Kennedy с соавторами также отметили, что частота вывиха подвижного вкладыша при одномыщелковом эндопротезировании латерального компартмента случается примерно в 4% случаев. Авторы советуют интраоперационно оценивать стабильность мобильного вкладыша в искусственном суставе и при невозможности создать достаточное натяжение латеральных связочных структур — использовать тибиальный компонент с фиксированным вкладышем.Относительно молодой возраст, высокий ИМТ, износ хряща в пателло-феморальном отделе и высокий уровень физической активности не должны рассматриваться как абсолютные противопоказания для парциального эндопротезирования латерального отдела коленного сустава [32].
Говоря об одномыщелковых эндопротезах с фиксированным вкладышем, стоит упомянуть об имплантатах с полностью полиэтиленовым большеберцовым компонентом. Первые модели эндопротезов были представлены all-poly тибиальными компонентами, и ряд исследователей рассматривали такой вариант дизайна как золотой стандарт парциальной артропластики [33]. E. Deroche с соавторами в своем анализе, рассмотрев 54 случая парциального эндопротезирования латерального отдела коленного сустава, также пришли к выводу, что использование полностью полиэтиленового большеберцового компонента показало отличные результаты. Степень износа полиэтилена, частота ревизий и удовлетворенность пациентов операцией были сопоставимы с эндопротезами с металлической платформой и фиксированным или мобильным вкладышем [34].
Однако последние обзоры, посвященные эндопротезированию латерального отдела коленного сустава, демонстрируют, что частота ревизий при использовании эндопротеза с металлической платформой и фиксированным вкладышем (0,8%) гораздо меньше по сравнению с моделями протезов с полностью полиэтиленовым большеберцовым компонентом (8,6%) и одномыщелковыми эндопротезами с мобильным вкладышем (7,1%) [27]. Прогрессирование артроза в смежных отделах коленного сустава, некорректное выравнивание механической оси нижней конечности и асептическое расшатывание явились основными причинами ревизионных вмешательств после одномыщелкового эндопротезирования латерального отдела коленного сустава [35]. Полученные данные в очередной раз подтверждают, что точная коррекция механической оси нижней конечности, сохранение баланса сгибательного и разгибательного промежутков во время операции, тщательный отбор пациентов и использование проверенных временем имплантатов позволят значительно уменьшить риск вышеупомянутых осложнений [27, 35].
Использование компьютерной навигации и робот-ассистированной хирургии на сегодняшний день являются перспективными направлениями. Технологический прогресс в одномыщелковом эндопротезировании в настоящее время направлен на оптимизацию точности механического выравнивания оси нижней конечности, баланса промежутков и позиционирования компонентов эндопротеза, контролируемых в традиционной хирургической технике органами чувств хирурга и заметно влияющих на результат — срок выживаемости эндопротеза [36].
Так, ряд авторов, говоря в своих исследованиях об одномыщелковом эндопротезировании коленного сустава, отмечают, что как при медиальной, так и при латеральной частичной артропластике коленного сустава, выполненной с помощью роботизированной системы, отмечаются лучшие результаты по сравнению со стандартной техникой операции (преимущественно касающиеся позиционирования компонентов эндопротеза). Роботизированное одномыщелковое эндопротезирование позволяет добиться выравнивания механической оси нижней конечности, максимально приближенной к нативной, более точного ориентирования компонентов эндопротеза, что, в свою очередь, снижает частоту ревизионных вмешательств после первичной артропластики [37, 38, 39, 40].
F. Zambianchi с соавторами, исследуя робот-ассистированную хирургию латерального отдела коленного сустава, показали 100% трехлетнюю выживаемость у 67 пациентов после проведенной роботом операции [41]. R. Canetti с соавторами в своем ретроспективном исследовании продемонстрировали, что робот-ассистированное одномыщелковое эндопротезирование латерального отдела коленного сустава обеспечивает более быстрое возвращение к спорту в сравнении со стандартной хирургической техникой (4,2 мес. и 10,5 мес. соответственно) [42].
Компьютерная навигация, по мнению D. Chona с соавторами, так же, как и роботическая система, позволяют добиться более точного позиционирования компонентов одномыщелкового эндопротеза, что особенно актуально для хирургов, только начинающих осваивать парциальную артропластику [43]. По результатам последних исследований, протезирование латерального отдела коленного сустава с использованием вспомогательных компьютерных технологий показывает сопоставимые результаты со стандартной хирургической техникой. Так, C.N. Carender с соавторами в своем метаанализе установили, что одномыщелковое эндопротезирование латерального отдела коленного сустава с использованием компьютерной навигации в среднем длится на 8 мин. дольше, чем без нее. Однако не было обнаружено достоверных различий в частоте краткосрочных послеоперационных осложнений, частоте ревизионных вмешательств и среднем времени пребывания пациентов в стационаре между парциальной артропластикой с компьютерной навигацией и прецизионной хирургической техникой [44].
Важно понимать, что, несмотря на вышеуказанные преимущества, робот-ассистированные технологии, используемые для одномыщелкового эндопротезирования латерального отдела коленного сустава, остаются достаточно дорогостоящими, имеют большое количество технических и организационных ограничений, используются в крупных хирургических клиниках и не являются общедоступной опцией [31].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потенциальными преимуществами эндопротезирования латерального отдела являются возможность сохранить естественную кинематику коленного сустава и добиться высокой степени удовлетворенности пациентов результатами перенесенной операции. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на изучение этого сложного, но эффективного хирургического вмешательства, для того чтобы сформировать адекватные критерии отбора пациентов и оценить, какие из технических опций являются ключевыми для получения оптимального клинического результата.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Благодарность
Авторы выражают благодарность художнику И.В. Онюшкиной за создание иллюстраций.
Заявленный вклад авторов
Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Все авторы прочли и одобрили финальную версию рукописи статьи. Все авторы согласны нести ответственность за все аспекты работы, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение и решение всех возможных вопросов, связанных с корректностью и надежностью любой части работы.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Возможный конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Этическая экспертиза. Не применима.
Информированное согласие на публикацию. Не требуется.
DISCLAIMERS
Acknowledgment
The authors would like to express their deep gratitude to I.V. Onyushkina for making some drawings.
Author contribution
All authors made equal contributions to the study and the publication.
All authors have read and approved the final version of the manuscript of the article. All authors agree to bear responsibility for all aspects of the study to ensure proper consideration and resolution of all possible issues related to the correctness and reliability of any part of the work.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Disclosure competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Ethics approval. Not applicable.
Consent for publication. Not required.
About the authors
Dmitrii V. Chugaev
Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
Author for correspondence.
Email: dr.chugaev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5127-5088
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8, Akademika Baykova st., St. Petersburg, 195427Evgeniy D. Kravtsov
Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
Email: kravtsov.ortho@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8409-9532
Russian Federation, 8, Akademika Baykova st., St. Petersburg, 195427
Nikolai N. Kornilov
Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
Email: drkornilov@hotmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6905-7900
Dr. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8, Akademika Baykova st., St. Petersburg, 195427Taras A. Kulyaba
Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
Email: taraskuliaba@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3175-4756
Dr. Sci. (Med.)
Russian Federation, 8, Akademika Baykova st., St. Petersburg, 195427References
- Aldinger P.R., Clarius M., Murray D.W., Goodfellow J.W., Breusch S.J. Medial unicompartmental knee replacement using the “Oxford Uni” meniscal bearing knee. Orthopade. 2004;33(11):1277-1283. (In German). doi: 10.1007/s00132-004-0712-6.
- Чугаев Д.В., Корнилов Н.Н., Карпухин А.С., Коган П.Г., Ласунский С.А. Одномыщелковое латеральное эндопротезирование в структуре современной артропластики коленного сустава: «горе от ума» или оптимальное решение? Травматология и ортопедия России. 2020;26(3):34-48. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-3-34-48. Chugaev D.V., Kornilov N.N., Karpukhin A.S., Kogan P.G., Lasunsky S.A. Lateral Unicompartmental Knee Arthroplasty in Structure of Modern Knee Replacement: Is It “Woe From Wit” or a Viable Go-To Method? Traumatology and Orthopedics of Russia. 2020;26(3):34-48. (In Russian). doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-3-34-48.
- Sah A.P., Scott R.D. Lateral unicompartmental knee arthroplasty through a medial approach. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 2008;90 Suppl 2 Pt 2: 195-205. doi: 10.2106/JBJS.H.00257.
- Walker T., Aldinger P.R., Streit M.R., Gotterbarm T. Lateral unicompartmental knee arthroplasty - a challenge. Oper Orthop Traumatol. 2017;29(1):17-30. (In German). doi: 10.1007/s00064-016-0476-2.
- Karrholm J., Brandsson S., Freeman M.A. Tibiofemoral movement 4: changes of axial tibial rotation caused by forced rotation at the weight-bearing knee studied by RSA. J Bone Joint Surg Br. 2000;82(8):1201-1203. doi: 10.1302/0301-620x.82b8.10715.
- Brantigan O.C., Voshell A.F. Ligaments of the knee joint; the relationship of the ligament of Humphry to the ligament of Wrisberg. J Bone Joint Surg Am. 1946;28:66.
- Javois C., Tardieu C., Lebel B., Seil R., Hulet C. Société française d’arthroscopie. Comparative anatomy of the knee joint: effects on the lateral meniscus. Orthop Traumatol Surg Res. 2009;95(8 Suppl 1):S49-59. doi: 10.1016/j.otsr.2009.09.008.
- Рохоев С.А., Соломин Л.Н. Использование метода чрескостного остеосинтеза при лечении контрактур коленного сустава у взрослых пациентов: обзор литературы. Травматология и ортопедия России. 2021;27(1):185-197. doi: 10.21823/2311-2905-2021-27-1-185-197. Rokhoev S.A., Solomin L.N. Usage of External Fixation in the Treatment of Adult Patients with Knee Joint Stiffness. Traumatology and Orthopedics of Russia. 2021;27(1):185-197. (In Russian). doi: 10.21823/2311-2905-2021-27-1-185-197.
- D’Agostino P., Dourthe B., Kerkhof F., Stockmans F., Vereecke E.E. In vivo kinematics of the thumb during flexion and adduction motion: Evidence for a screw-home mechanism. J Orthop Res. 2017;35(7):1556-1564. doi: 10.1002/jor.23421.
- Jeon J.W., Hong J. Comparison of screw-home mechanism in the unloaded living knee subjected to active and passive movements. J Back Musculoskelet Rehabil. 2021;34(4):589-595. doi: 10.3233/BMR-200110.
- Kim H.Y., Kim K.J., Yang D.S., Jeung S.W., Choi H.G., Choy W.S. Screw-Home Movement of the Tibiofemoral Joint during Normal Gait: Three-Dimensional Analysis. Clin Orthop Surg. 2015;7(3):303-309. doi: 10.4055/cios.2015.7.3.303.
- Lamm B.M., Paley D. Deformity correction planning for hindfoot, ankle, and lower limb. Clin Podiatr Med Surg. 2004;21(3):305-326, v. doi: 10.1016/j.cpm.2004.04.004.
- Weidow J., Pak J., Karrholm J. Different patterns of cartilage wear in medial and lateral gonarthrosis. Acta Orthop Scand. 2002;73(3):326-329. doi: 10.1080/000164702320155347.
- Johal S., Nakano N., Baxter M., Hujazi I., Pandit H., Khanduja V. Unicompartmental Knee Arthroplasty: The Past, Current Controversies, and Future Perspectives. J Knee Surg. 2018;31(10):992-998. doi: 10.1055/s-0038-1625961.
- Insall J., Walker P. Unicondylar knee replacement. Clin Orthop Relat Res. 1976;(120):83-85.
- Laskin R.S. Unicompartmental tibiofemoral resurfacing arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1978;60(2):182-185.
- Insall J., Aglietti P. A five to seven-year follow-up of unicondylar arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1980;62(8):1329-1337.
- Scott R.D., Santore R.F. Unicondylar unicompartmental replacement for osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg Am. 1981;63(4):536-544.
- Deshmukh R.V., Scott R.D. Unicompartmental knee arthroplasty: long-term results. Clin Orthop Relat Res. 2001;(392):272-278.
- Marmor L. Unicompartmental knee arthroplasty. Ten- to 13-year follow-up study. Clin Orthop Relat Res. 1988;(226):14-20.
- Rougraff B.T., Heck D.A., Gibson A.E. A comparison of tricompartmental and unicompartmental arthroplasty for the treatment of gonarthrosis. Clin Orthop Relat Res. 1991;(273):157-164.
- Newman J.H., Ackroyd C.E., Shah N.A. Unicompartmental or total knee replacement? Five-year results of a prospective, randomised trial of 102 osteoarthritic knees with unicompartmental arthritis. J Bone Joint Surg Br. 1998;80(5):862-865. doi: 10.1302/0301-620x.80b5.8835.
- Isaac S.M., Barker K.L., Danial I.N., Beard D.J., Dodd C.A., Murray D.W. Does arthroplasty type influence knee joint proprioception? A longitudinal prospective study comparing total and unicompartmental arthroplasty. Knee. 2007;14(3):212-217. doi: 10.1016/j.knee.2007.01.001.
- Sun P.F., Jia Y.H. Mobile bearing UKA compared to fixed bearing TKA: a randomized prospective study. Knee. 2012;19(2):103-106. doi: 10.1016/j.knee.2011.01.006.
- Ackroyd C.E., Whitehouse S.L., Newman J.H., Joslin C.C. A comparative study of the medial St Georg sled and kinematic total knee arthroplasties. Ten-year survivorship. J Bone Joint Surg Br. 2002;84(5):667-672. doi: 10.1302/0301-620x.84b5.12404.
- Koskinen E., Eskelinen A., Paavolainen P., Pulkkinen P., Remes V. Comparison of survival and cost-effectiveness between unicondylar arthroplasty and total knee arthroplasty in patients with primary osteoarthritis: a follow-up study of 50,493 knee replacements from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2008;79(4):499-507. doi: 10.1080/17453670710015490.
- Campi S., Tibrewal S., Cuthbert R., Tibrewal S.B. Unicompartmental knee replacement - Current perspectives. J Clin Orthop Trauma. 2018;9(1):17-23. doi: 10.1016/j.jcot.2017.11.013.
- Bonanzinga T., Tanzi P., Altomare D., Dorotei A., Iacono F., Marcacci M. High survivorship rate and good clinical outcomes at mid-term follow-up for lateral UKA: a systematic literature review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021;29(10):3262-3271. doi: 10.1007/s00167-020-06129-8.
- Deroche E., Martres S., Ollivier M., Gadeyne S., Wein F., Gunepin F.X. et al. Excellent outcomes for lateral unicompartmental knee arthroplasty: Multicenter 268-case series at 5 to 23 years’ follow-up. Orthop Traumatol Surg Res. 2020;106(5):907-913. doi: 10.1016/j.otsr.2020.03.019.
- Buzin S.D., Geller J.A., Yoon R.S., Macaulay W. Lateral unicompartmental knee arthroplasty: A review. World J Orthop. 2021;12(4):197-206. doi: 10.5312/wjo.v12.i4.197.
- Walker T., Zahn N., Bruckner T., Streit M.R., Mohr G., Aldinger P.R. et al. Mid-term results of lateral unicondylar mobile bearing knee arthroplasty: a multicentre study of 363 cases. Bone Joint J. 2018;100-B(1):42-49. doi: 10.1302/0301-620X.100B1.BJJ-2017-0600.R1.
- Kennedy J.A., Mohammad H.R., Yang I., Mellon S.J., Dodd C.A.F., Pandit H.G. et al. Oxford domed lateral unicompartmental knee arthroplasty. Bone Joint J. 2020;102-B(8):1033-1040. doi: 10.1302/0301-620X.102B8.BJJ-2019-1330.R2.
- Cartier P., Sanouiller J.L., Grelsamer R.P. Unicompartmental knee arthroplasty surgery. 10-year minimum follow-up period. J Arthroplasty. 1996; 11(7):782-788. doi: 10.1016/s0883-5403(96)80177-x.
- Deroche E., Batailler C., Lording T., Neyret P., Servien E., Lustig S. High Survival Rate and Very Low Wear of Lateral Unicompartmental Arthroplasty at Long Term: A Case Series of 54 Cases at a Mean Follow-Up of 17 Years. J Arthroplasty. 2019;34(6):1097-1104. doi: 10.1016/j.arth.2019.01.053.
- Fratini S., Meena A., Alesi D., Cammisa E., Zaffagnini S., Marcheggiani Muccioli G.M. Does Implant Design Influence Failure Rate of Lateral Unicompartmental Knee Arthroplasty? A Meta-Analysis. J Arthroplasty. 2022;37(5):985-992e3. doi: 10.1016/j.arth.2022.01.068.
- Negrin R., Duboy J., Reyes N.O., Barahona M., Iniguez M., Infante C. et al. Robotic-assisted Unicompartmental knee Arthroplasty optimizes joint line restitution better than conventional surgery. J Exp Orthop. 2020;7(1):94. doi: 10.1186/s40634-020-00309-8.
- Batailler C., White N., Ranaldi F.M., Neyret P., Servien E., Lustig S. Improved implant position and lower revision rate with robotic-assisted unicompartmental knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019;27(4):1232-1240. doi: 1007/s00167-018-5081-5.
- Burger J.A., Kleeblad L.J., Laas N, Pearle A.D. Mid-term survivorship and patient-reported outcomes of robotic-arm assisted partial knee arthroplasty. Bone Joint J. 2020;102-B(1):108-116. doi: 10.1302/0301-620X.102B1.BJJ-2019-0510.R1.
- Heckmann N.D., Antonios J.K., Chen X.T., Kang H.P., Chung B.C., Piple A.S. et al. Midterm Survivorship of Robotic-Assisted Lateral Unicompartmental Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2022;37(5):831-836. doi: 10.1016/j.arth.2022.01.023.
- Mohan T., Panicker J., Thilak J., Shaji D., Hari H. Short-Term Outcomes of Robotic Lateral Unicompartmental Knee Arthroplasty: An Indian Perspective. Indian J Orthop. 2022;56(4):655-663. doi: 10.1007/s43465-021-00555-7.
- Zambianchi F., Franceschi G., Rivi E., Banchelli F., Marcovigi A., Khabbaze C. et al. Clinical results and short-term survivorship of robotic-arm-assisted medial and lateral unicompartmental knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(5):1551-1559. doi: 10.1007/s00167-019-05566-4.
- Canetti R., Batailler C., Bankhead C., Neyret P., Servien E., Lustig S. Faster return to sport after robotic-assisted lateral unicompartmental knee arthroplasty: a comparative study. Arch Orthop Trauma Surg. 2018;138(12):1765-1771. doi: 10.1007/s00402-018-3042-6.
- Chona D., Bala A., Huddleston J.I. 3rd, Goodman S.B., Maloney W.J., Amanatullah D.F. Effect of Computer Navigation on Complication Rates Following Unicompartmental Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2018;33(11):3437-3440.e1. doi: 10.1016/j.arth.2018.06.030.
- Carender C.N., DeMik D.E., Bedard N.A., Shamrock A.G., An Q., Brown T.S. Utilization and Short-Term Outcomes of Computer Navigation in Unicompartmental Knee Arthroplasty. Iowa Orthop J. 2020;40(1):61-67.
Supplementary files